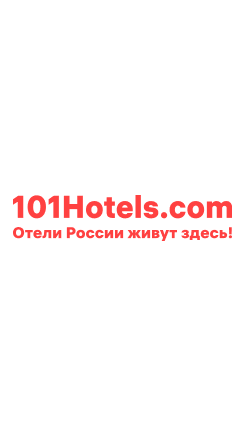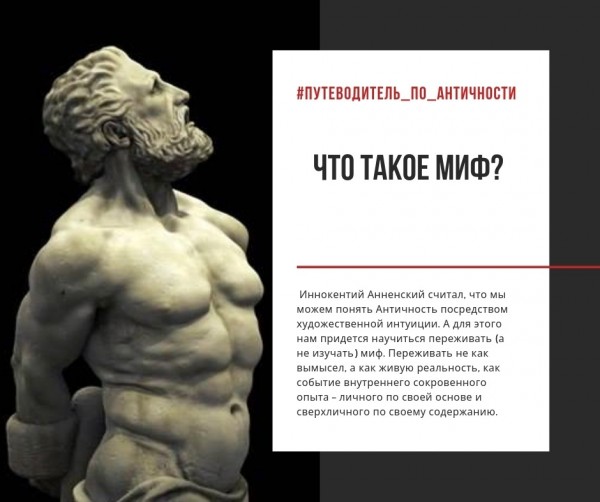
ЧТО ТАКОЕ МИФ?
Нередко я задаюсь вопросом, способен ли современный человек приблизиться к мировосприятию древних греков, осознать, что двигало Клитемнестрой или Медеей, ощутить трепет перед космогонической Ночью Гомера, испытать волнение от прочтения орфических гимнов или поэзии Пиндара, словом, может ли современный человек, так и не разрешивший внутренний конфликт между Богом и богами, Олимпом и Голгофой, Единым и многим, политеизмом и монотеизмом (материалистическая картина мира, чьим узником он стал, никак не явилась разрешением), проникнуть в таинства священной Эллады? Всякий раз я вынуждена давать отрицательный ответ. В предисловии к «Греческим мифам» Фридрих Георг Юнгер справедливо замечает: «Наше мышление — не мышление мифа, а мышление о мифе. Мы не мыслим так, как мыслили греки, но осмысляем то, о чем мыслили они. Вопрос заключается в том, чтобы выяснить, насколько греческое мышление совпадает с нашим собственным».
Для современного человека, привыкшего видеть в мифе синоним «сказки», «вымысла», «иллюзии», «суеверия» основная проблема сводится не столько к исторической дистанции, отделяющей его от греков, сколько к дистанции онтологической, бытийной. Мы не просто живем в мире, оставленном богами, — мы живем в мире расколдованном (Entzauberung der Welt Вебера); в мире, где победили профанация и десакрализация; в мире, где принято произносить приговоры о смерти Бога, смерти автора, утрате середины (Зедльмайр), конце философии, конце истории, закате Запада, и произносить так часто, что они давно утратили всякий смысл. В них больше нет напряженности. Они уже не призывают задуматься. Из них извлечен нерв, сердце, полемос. Их услышали и с ними смирились.
Инверсия смысла слова «миф» демонстрирует себя не только в синонимических рядах , не имеющих к мифу никакого отношения, но и в появлении таких понятий как «студенческие мифы», «журналистские мифы» и т.д. Совокупность примет, вымыслов и приземленных суеверий безосновательно именуется «мифом». Между тем стоит напомнить, что миф — это изложение сакральной истории, это слово о богах, это повествование о событии, случившемся во время Оно, или во времена «начала всех начал». Как утверждает Мирча Элиаде, миф описывает вторжение священного в этот мир. Всякий, кто берется рассказывать о мифе, оказывается перед непростой дилеммой между желанием быть понятым своими читателями, и опасением упростить, приземлить и умалить Мифическое. Жонглируя историями о божественном адюльтере и всячески демонстрируя панибратское отношение к богам, многим рассказчикам удается достигнуть лишь единственной цели — оказаться далеко за пределами области мифа.
Неужели современный человек никогда уже не почувствует, что воспламеняло кровь древних эллинов, чем были для них боги и герои, как они мыслили судьбу и как вступали в смерть? Иннокентий Анненский считал, что мы можем понять Античность посредством художественной интуиции. А для этого нам придется научиться переживать (а не изучать) миф. Переживать не как вымысел, а как живую реальность, как событие внутреннего сокровенного опыта — личного по своей основе и сверхличного по своему содержанию. Мифические структуры пронизывают все наше существование, но мы перестали их замечать, мы больше не распознаём в них архетипические модели. Человек времен Гераклита, Парменида, Эмпедокла, знал, что миф дает ключ к реактуализации абсолютного начала, что разрушенный Космос можно сотворить заново (через космогонический миф, возвращение к истокам). В книге «Аспекты мифа» Элиаде пишет:
«Это живой мир, населенный существами из плоти и крови; они подчиняются законам становления, старения и смерти. Поэтому он требует периодического восстановления и обновления. Но мир можно обновить, только повторяя то, что in illo tempore сделали Бессмертные, только повторяя сотворение».
В основе любого ритуального действия, любого религиозного акта лежит некая парадигматическая модель. Любое историческое событие, меняющее лицо мироздания, имеет свой небесный прототип. Что мы, собственно, понимаем под «историей», «исторической личностью»? Для Шпенглера история была совокупностью и воплощением исполинских биографий. Можно вспомнить и Томаса Карлейля, считавшего, что всемирная история есть биография великих людей (к слову, «теории великих людей» придерживались и такие мыслители, как Габриэль Тард, Фридрих Ницше, Хосе Ортега-и-Гассет). В «Закате Европы» задан вопрос: «Не лежат ли в основе всего исторического общие биографические пра-формы?», т.е. некие архетипические формы или парадигматические модели, которые повторяются, воплощаясь в эпохах, лицах, временах. Я бы добавила: событиях. Шпенглер упоминает короля Карла XII, который постоянно носил с собой жизнеописание Александра Великого и желал во всем подражать этому величайшему завоевателю. В свою очередь Александр подражал героям Ахиллу (за что его стали называть «новым Ахиллом») и Гераклу, более того — можно допустить смелую мысль, что он сознательно воплощал многие парадигматические модели, взятые из «Илиады» Гомера, что сопровождала его в военных походах. Подражал Александр и богу Дионису (вспомним его индийский поход). Египетский фараон, сражавшийся с врагами, подражал богу Ра, воспринимая своих противников как воплощение гигантского змея Апофиса (Апопа). Так греческие герои (например, Орест-Аполлон восставший на Эгисфа) видели в своих врагах древних Титанов, в то время как сами они имитировали действия победоносных олимпийских богов, низвергнувших чад великой матери Геи в мрачный Тартар. Молитва к Тифону, обнаруженная в Большом Магическом Папирусе (см. «Смена поколений богов. Вопрос о культе титанов»), является иллюстрацией противоположного — антибожественного — пафоса, поскольку произносящий ее, имитирует богоборческий акт врага Зевса. Подражание богам, титанам, даймонам, мифическим предкам, героям лежит в основе всех древних мистерий.
Современные французские философы Ж.Лаку-Лабарт и Ж.-Л.Нанси вводят понятие «историческая имитация», подразумевая под ним мимесис классической древности. Даже в самоубийстве Клеопатры авторы усматривают подражание какому-нибудь эпизоду из мифа об Иштар-Астарте. Подражание богам и мифическим героям исконно лежало в основе всех значительных исторических событий. Свой прототип имеют как войны, пережитые человечеством, так и архитектурные шедевры: храмовые комплексы Древнего Египта и Древней Греции, храмы в Кхаджурахо, Парфенон, мечеть Омейядов, готические соборы, замок Шамбор, Лувр, московский Кремль. Там, где существует тонкая связь между божественным и человеческим, «полотно» становления способно отразить на себе росчерки бытия. Там же, где этой связи нет, все «становящееся» явственно несет на себе признаки распада и скорого конца. Удел его — сиюминутность, эфемерность.
Сколькие властители не расставались с «Жизнеописаниями» Плутарха и пытались (возможно, неосознанно) следовать за своими великими предшественниками? А скольким властителям сегодня под силу вытянуть жребий Менелая или Агамемнона, а, вытянув, достойно принять и исполнить? Как отмечает Э.Эдингер:
«Стремление великих людей к славе и бессмертию часто обусловлено страстным желанием добавить свою судьбу к архетипическим образам».
История современного человечества пишется уже не «исполинскими биографиями», но карликовыми интересами, а подражание богам и героям уступило место подражанию друг другу. Личность, которая была уникальным воплощением вечного типа (ἀρχέτυπον), постепенно перестала являться в истории и ее подменил индивид. Личность созидала земной порядок в соответствии с пра-формами: возводящиеся ею идеальные города — от Сфорцинда Филарете до Пьенца Росселино — имели свой прототоп в Адоцентине «Пикатрикс’а», Космополисе стоиков, идеальном государстве Платона, Небесном Граде «Откровения святого Иоанна Богослова». Индивид, не подозревающий ни о каких типах, занят лишь приумножением симулякров, «копий без оригинала» . Элиаде подчеркивает: «Предмет или действие становятся реальными лишь в той мере, в какой они имитируют или повторяют архетип». Это заставляет нас признать, что мы давно перестали жить в «реальности» и совершать «реальные» действия. Когда человек имитировал действия богов, героев или предков, он осуществлял исход из времени: покидая мирское время, chronos, он вступал во время священное, мифическое, zatheos chronos (например, во время мистерий или обряда обновления мира, обычно возлагавшегося на царя). Исход из времени, возвращение к истоку, был космогоническим ритуалом, во время которого стиралась граница между миром мертвых и миром живых.
Десакрализация и дегероизация — две основные черты современного мироустройства — делают невозможным явление нового Александра или нового Леонардо. Парадигматические модели подражания богам/титанам или даймонам можно выявить и в греческой трагедии. Я задаюсь непростым вопросом: какой парадигматический жест имитирует Эдип? В греческих мифах ни один бог не разделяет ложе со своей собственной матерью после убийства отца. Кронос, низвергающий Урана, занимает его трон, но не делает родную мать Гею своей супругой (ею становится его сестра Рея). Так же и Зевс, лишающий власти своего отца Кроноса, не делит ложе со своей матерью Реей (его супругой является его сестра Гера). Кому подражали Медея, Алкеста, Антигона? Имели ли их поступки божественные прототипы или эти герои положили начало новым парадигматическим моделям, которые нам предстоит открыть?
Курт Хюбнер делает важное замечание:
«В своем “Федре” Платон рассказывает, что каждый человек создан в своей сущности по образу того бога, который сопровождал его приход в мир для постижения идей. Если это был Арес, то человек будет готов в случае оскорбления пожертвовать собой и даже любимым; если это был Зевс, то человек будет заниматься философией и попытается в том же духе воспитать любимого; то же можно сказать о влиянии Геры, Аполлона и других богов».
Однако буквальное понимание этой идеи может привести к обманчивой уверенности в том, что каждый человек есть бог. Иными словами, потенциальное и непроявленное можно ошибочно принять за реализованное, а то, что было заданием, воспринять как данность. Когда аналитик-юнгианец Эдвард Эдингер предлагает своим читателям (вне всяких различий между гиликами, психиками и пневматиками, если мы воспользуемся гностической классификацией) искать в греческих мифах параллели со своей собственной жизнью, он совершает непростительную, но, к сожалению, распространенную ошибку. Архетипические модели оживали в экзистенции героев, сыновей Земли и звездного Неба, четвертого поколения Гомера. Между пятым, пост-героическим, поколением людей («железный род») и четвертым лежит непреодолимая пропасть. Нынешний человек отнюдь не άνθρωπος, он более не “сын Земли и звездного Неба”, но лишь “сын Земли”. Он мнит богов удалившимися только потому, что удалился сам. Именно он мертв (боги живы), но продолжает делать вид, что нечто ему принадлежащее называется жизнью.
Ницше имел полное право искать в своей судьбе архетипические модели, говорить о философствующем боге Дионисе, о злой мудрости Силена, о предтече Сверхчеловека Заратустре, о внутреннем хаосе, о своей задаче расколоть историю надвое, он имел право подписывать свои письма именем Дионис Распятый, как Гельдерлин имел право писать о “всепомечающей” бездне, слагать гимны богам и титанам, называть себя Скарданелли, прозносить загадочное слово “палакш”. Ядро их экзистенции было пронизано Божественным, они сумели принести высшую жертву и оживить в своей крови сверхчеловеческий вихрь, возносящий их над прочими смертными. Но этого права нет и не может быть у того, кто вознамерился найти внутри себя целый Олимп, но не поставил на кон свое посмертие, не пошел путем самопреодоления, не рискнул заглянуть за пределы формы и высвободить тайный огонь, горящий на тайном алтаре. Это право добывают в войне, в майевтическом методе, в дерзостном движении вспять, к истокам, к пугающим началам, к праосновам бытия. Это право на жизнь, равное праву на смерть. И только после его обретения можно искать параллели между своей судьбой и судьбой Ахилла, Фиеста, Пенфея и т.д. Эдвард Эдингер пишет, что некоторые поэты находились под влиянием образа Прометея, а иные из них доходили и до опасной идентификации с ним: «Одним из таких поэтов был Гете. Он провозглашал: ‘Фабула Прометея ожила во мне. Я перекроил робу титана под свой размер’. Шелли и Байрон были поглощены образом Прометея”. В свою очередь Ницше был очарован богом Дионисом. Эдингер даже называет его примером одержимости этим божеством.
Современный итальянский философ Клаудио Мутти пишет в книге «Imperium», что комментатор Аристотеля, известный как Фемистий из Константинополя, а также позднеантичный ритор Либаний сравнивали Императора Юлиана с Дионисом и Гераклом, что объяснялось не случайностью, «а имело мифическое содержание и исходило непосредственно от знаний посвященных». Там же мы читаем о пророческом сне матери Юлиана — Василина (Базилина), супруга Юлия Констанция, узнала о том, что ей суждено родить на свет нового Ахилла. Согласно Клаудио Мутти, сам Юлиан считал путь Пелида парадигмой для подражания. В римском императоре видели сходство и с «новым Дионисом» Александром Великим, объединившим Восток и Запад.
«Поэтому Юлиан, — пишет Мутти, — по словам Максима Эфесского, поверил, когда ему сказали, что для него уготована судьба продолжателя дела Македонского. После смерти Августа, гласит легенда, присутствующие увидели, что тело покидают две души: сперва Юлиана, затем Александра. Похожие на два факела, они превратились в огненные шары, затем две падающие звезды смешались с бесчисленными звездами на небосводе».
Согласно В.Отто, вакханки, смертные земные женщины, услышавшие зов Диониса, также подражали его божественным спутницам в своем священном безумии. Он поясняет: «Как бы мы не назвали этих божественных спутниц, именно они были настоящими менадами и именно о них, а не о земных женщинах, идет речь в греческом искусстве. Земные женщины копировали поведение божественных спутниц Диониса».

КТО ТАКИЕ ГРЕЧЕСКИЕ ГЕРОИ?
Одна из самых распространенных ошибок, унаследованных наукой об античности от Ксенофана, заключается в приписывании олимпийским богам антропоморфных черт. Не боги антропоморфны, а мы, люди, теоморфны. И теоморфны в той степени, в какой мы божественны. Вплоть до XIX века взгляд Ксенофана продолжал предопределять развитие методологических моделей исследования мифологии, и только с появлением Шеллинга стало возможно говорить о новом взгляде на античные мифы. Миф как слово о богах, как изложение сакральной истории, изначально был парадигматической моделью для подражания — подражания сверхъестественным существам: богам, героям, титанам, предкам. «В целом миф описывает различные, иногда драматические, мощные вторжения священного (или сверхъестественного) в этот мир», — пишет Мирча Элиаде. В эпической поэме Гомера «Илиада» мы видим целую череду таких вторжений: боги нисходят на поле битвы, становятся предводителями троянцев или ахейцев, они вырывают из объятий Аида своих избранников, отводят копья и стрелы, поднимают их боевой дух, вдыхают в их грудь отвагу, делают неуязвимыми, принимают образ того или иного воина и вмешиваются в ход Троянской войны, выступают друг против друга, идут на ухищрения, страдают от ран, нанесенных людьми, испытывают боль и гнев. Эпоха титанов, то есть эпоха правления Кроноса, не знала героев. Герои появляются только в эпоху правления Зевса. Они являются в мир не как сыны Земли, но уже как сыны Земли и Неба — рождаясь от земных матерей и небесных отцов, — и в этом их главное отличие от землерожденных Титанов, Гигантов и автохтонов, связанных с Геей. Как подчеркивает Фридрих Юнгер, «у автохтонов решающую роль играет материнское начало, у героев — отцовское. Герои — это дети отца, от богов. Они живут в том порядке, который установлен отцовским, а не материнским началом». Гомеровский герой — «муж без пуповины», в силу своего происхождения он получил автономию от материнского начала, ибо руководящим принципом его жизни выступает номос Зевса.
Человек у Гомера есть сосуд, вместилище, заполняемое божественными силами. Он — герой именно потому, что способен впускать в себя богов и даймонов, быть одерживаемым ими. Он способен чувствовать богов в своей крови и постигать их кровью, поскольку в жилах его человеческая кровь смешалась с нетленным ихором. Все, что поднимается из груди гомеровского человека, будь то гнев или обида, словом, любое чувство, любая эмоция, — принадлежат не человеку, но богу. И гнев Ахилла, который должна воспевать гомерова Муза, был самим богом, избравшим Ахилла для своего проявления. Гнев Ахилла подобен гневу Аполлона. Вот как описывает его Гомер: «Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали/В шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный». В книге «Дионис преследуемый» я уже акцентировала внимание на феномене опыта божественного наваждения, объяснение которого дает Доддс («Греки и иррациональное»). Он описывает только два вида наваждения: ate (когда некий даймонический агент похищает разум человека, заставляя его совершать необдуманные и роковые поступки) и menos (когда бог или даймон «вдыхает» в героя силу, отвагу, энергию). Современные аналитические психологи склонны впадать в заблуждение и видеть в божественном наваждении влияние импульсов, поднимающихся из бессознательного. Импульсы подобного рода перманентно воздействуют на землерожденных (к коим, без сомнения, относится и современное человечество), до последнего вздоха связанных пуповиной с Матерью Геей и ее коварными отпрысками Титанами.
Гомеровские герои, представлявшие собой совершенно другую онтологическую формацию, находились под воздействием того, что мы называем сверхсознанием. Но несмотря на то, что Гомер часто использует по отношению к героям эпитет «богоподобные», он далек от того, чтобы уравнивать Сынов Земли и Неба с богами Олимпа. Достаточно вспомнить слова Аполлона, которые он обращает к дерзкому Диомеду: «Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами, / Гордый Тидид! Никогда меж собою не будет подобно / Племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных!» Служа проводниками божественной воли, гомеровские герои, вступая на поле битвы, были обречены Аиду. Кто такие ахейцы? Это мужи, которым «с юности нежной до старости Зевс подвизаться назначил в / бранях жестоких, пока не погибнет с оружием каждый». Чем отличаются от них троянцы? Фактически ничем. Между ними есть лишь одно отличие — ахейцы достигли сферы владычества одних богов (а потому они стали их верными заступниками), троянцы — других. Аполлон встал против Посейдона, Афина встала против Ареса, Артемида вооружилась против Геры, Гермес восстал против Леты, Ксанф бросил вызов Гефесту. «Так устремилися боги противу богов». Лишь Зевс, по воле которого все свершалось на поле брани, оставался наблюдать, время от времени взвешивая на золотых весах жизни дерзновенных воинов.
Над волей Зевса есть другая воля. И против нее не осмелился выступить ни один герой Троянской войны. Всепобеждающий Рок заставил их склонить головы пред неотвратимым. Только в этом была причина конца героического века. Рок было должно попрать. Зевс, поглощая Метис, которой суждено было родить ему сына, что положит конец его царствию, попирал Рок.
Зевс преодолевал судьбу дважды: когда он должен был вместе со своими братьями и сестрами быть поглощенным Кроносом, но Рея пошла на хитрость и подложила вместо него камень; когда он узнал о грядущем владыке и проглотил его мать, дабы утвердить свое нерушимое царство. Размыкая один круг непреложности, Зевс создавал другой — круг своего владычества. Поэтому из исполнителя воли мойр, он становился Мойрагетом, или водителем Мойр.
Одним из фундаментальных качеств, отличающих героя от обыкновенного человека, Иннокентий Анненский называет мегалопсихию, или «величие души». В «Истории античной драмы» он пишет:
«Внутренними качествами — так сказать, активной мегалопсихией — были мужество героя, дерзновение и нежелание ограничивать свою волю теми пределами, которые существуют для масс. Такое дерзновение влекло героя на борьбу с богами — теомахию. В некоторых русских сочинениях теомахия объясняется как борьба с судьбой, но это объяснение не имеет смысла: герой боролся с богами. (…) Была еще одна черта, отличавшая героя от простых смертных — это его отчужденность от толпы, его духовное одиночество. Но причиною такого отчуждения героя не было высокомерие или нежелание сливаться с толпой, а, напротив, готовность нести большую, сравнительно с другими, ответственность за свои права и дерзания».
Речь здесь идет отнюдь не о титаническом бунте против олимпийского порядка с целью узурпации власти, а о героическом дерзновении «стать как боги» (не вместо богов, а именно «как боги»), об онтологическом «броске», о попытке преобразовать саму экзистенцию посредством «выхода за пределы» дозволенного человеку. Геракл, сошедший в Аид, отвоевавший Алкесту у бога смерти («Алкеста» Еврипида) и возвративший ее Адмету, совершает тот самый «бросок» за предел жизни, который утверждает его в новом онтологическом статусе (больше того, он идет на то, что оказалось не под силу самому Аполлону). По словам Юлиуса Эволы, Геракл является прототипом олимпийского героя (номос Зевса), тогда как, к примеру, Ясон предстает как персонификация иного героического типа, связанного с уранической расой (номос Урана), и мы можем заметить, что Ясон оканчивает свой путь под развалинами легендарного корабля Арго, оказываясь жертвой той силы, что помогла ему заполучить Золотое Руно. Та же участь постигла ассирийского бога Зу, который даже после триумфального получения “скрижалей судьбы” и пророческой мудрости попадает в плен Ваала, что превращает его в хищную птицу и отправляет в изгнание. Библейский Адам, вкусивший плод с Древа Жизни, познал добро и зло и “стал как бог”, но, тем не менее, был изгнан из Рая вместе с Евой, обреченный носить “одежды кожаные” и “возделывать землю, из которой он взят”. В “Герметической Традиции” Эволы сказано: “Алхимики знали о том, что достижение бессмертия противоречит воле “Бога”.
Что в этом случае делает человек, герой? Вступает в теомахию, берет царствие божие силой, срубает “Дерево Брамы” могущественным орудием Мудрости. “Но среди предпринимавших такую попытку, — пишет Эвола, — есть триумфаторы, прошедшие испытание, и есть те, кому отказывает отвага, и кто терпит поражение, испытав смертельное воздействие той самой силы, которую они надеялись завоевать”. И далее: “Интерпретация подобного события высвечивает две противоположные возможности: героико-магическую и религиозную. В соответствии с первой, тот, кто проигрывает в мифе, является просто существом, чьи удача и способности оказались не равны его смелости. Но согласно второй концепции, религиозной, смысл оказывается иным: в этом случае невезение трансформируется в проклятие, героическое деяние в святотатство, причем проклято оно не по причине провала, а просто как таковое”.
Герой, Сын Неба и Земли, божественного Отца и земной матери, полубог, в чьих жилах текут “две неслиянные струи: кровь человека и ихор (кровь божественная)” (И.Анненский) — есть тот, кто решает исход метаисторического события — Гигантомахии, что сразу ставит его в особое положение. Геракл, вступающий в Гигантомахию, бросает вызов Матери-Земле Гее и ее хтоническим порождениям. Он утверждает вертикаль Отца, номос Зевса и олимпийский порядок. Как титаны (убийцы бога Диониса), так и гиганты осуществляли попытки низвергнуть царствие богов, и всякий раз, подстрекаемые Геей к бунту, они терпели поражение. Но если гигантов, сыновей Земли (не знавших Отца) ничто не роднит с героями, то титаны, напротив, находятся в опасной близости к героям, поскольку также являются Сыновьями Неба (Урана) и Земли (Геи). Именно герои в силу своей близости к богам становятся злейшими врагами и соперниками титанов.
Титаны не уделяют никакого внимания смертным до тех пор, пока в них не открывается героическое измерение и они не начинают тяготеть к центру, к “неизменной середине”, к тотальной реализации, ибо пока смертные остаются всего лишь “сыновьями Земли”, которые вращаются в “колесе сущего”, они находятся в относительной безопасности. Герой же пребывает в ситуации постоянного риска.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К АНТИЧНОСТИ?
Что, если я скажу вам, что всё, что вы знаете об античности, есть ложь? Наверное, вы решите, что я намерена предложить вам единственно верный взгляд на античность, объявив все прочие заблуждением? Нет, я не настолько самонадеянна. Но я абсолютно убеждена в том, что вместе мы сумеем приблизиться к античности. Не как к эпохе, которая осталась в далеком прошлом, а как к живой силе, что продолжает оказывать свое влияние на все последующие эпохи, вплоть до настоящего времени. Когда И.Анненский задался вопросом, способны ли мы понять античность, он ответил: «Да, способны». Не исследуя, не препарируя, а постигая ее с помощью единственного ключа — художественной интуиции.
Основной ошибкой современных антиковедов можно назвать доминирующую в их исследовательском методе тенденцию подходить к Античности с «меркой современности». Если это способ сократить историческую дистанцию и приблизиться к миросозерцанию античных греков, то отнюдь не самый удачный. Античная мифология, античная философия, античная драма возникли в «мистериальной Греции», т.е. до заката мистерий, и само собой, почти все ранние греческие мыслители и трагики были посвященными. Брать за точку отсчета интеллектуальное и духовное состояние современного человека, прошедшего и через жернова монотеистических религий, и через атеистическую обработку, все равно что расписываться в своем бессилии понять истоки западноевропейской философии и культуры. Современным антиковедам не приходит в голову искать стигматы мистерии ни в трагедиях Эсхила (который едва не простился с жизнью из–за того, что разгласил некоторые тайны в Эвменидах), ни во фрагментах Гераклита. Пока не произойдет контакт с античностью, пока не будет достигнута определенная мера понимания, пока эта сила не начнет внутренним образом воздействовать на микрокосм, человеку не следует даже браться за Средние века, Романское и Германское Возрождение, Новое время. Пусть этот путь займет десятилетия, потребует непрестанных возвращений на предыдущие ступени, очертит круг ваших интересов таким образом, что между вами и большинством людей возникнет большая дистанция, это «путешествие к центру» может стать самым важным для вас.
Когда Вячеслав Иванов признавался в том, что является, быть может, единственным человеком, который действительно верит в греческих богов, он говорил абсолютную правду. Он верил в Диониса, создавая свой фундаментальный труд, вдохновивший весь Серебряный век. Он верил, тогда как «они» (имя им легион) — не верили. Потому так мертвы их «медицинские отчеты» об Античности. Разве могут бесчисленные специалисты повторить вслед за нашим учителем Фридрихом Ницше: «Греческий мир как единственная и глубочайшая возможность жить» или «Единственная форма жизни для меня греческая»? Когда Ницше завершил свой первый труд «Рождение Трагедии из духа музыки», и античники того времени, знающие лишь научные штудии, ознакомились с этой книгой, они подвергли ее строгой критике. По их мнению, Ницше умудрился выдумать какого-то “своего” Диониса, сильно отличавшегося от принятого в кругах классических филологов. Безусловно. «Свой Дионис» был философствующим богом, учителем, грядущим судьей, который вынесет приговор культуре, образованию и цивилизации. Ницше признавался:
«В молодости я встретил опасного бога и никому не хотел рассказывать, что тогда произошло в моей душе — как хорошего, так и плохого. Так я постепенно научился молчать, как учатся говорить, чтобы уметь молчать о главном».
Вальтер Отто, отвечая на обвинения античников в адрес Ницше, совершенно верно заметил, что эти критики не вправе даже писать о богах, в которых они не верят.
Ницше в них верил. Верил в них Гельдерлин, верил Вячеслав Иванов, верил Максимилиан Волошин, верил Евгений Головин, который смотрел на греческий мир без каких-либо попыток вылепить из досократических мыслителей предуготовителей христианства, и, тем более, без попыток приблизиться к богам греческого пантеона с монотеистическим мерилом (именно эти возмутительные тенденции присутствуют во всех исследованиях от начала Средних веков до сего дня, поэтому греки были и остаются для нас вопросительным знаком). Евгений Головин писал для людей, «чувствующих в крови раскаленную божественную тень». У Павла Флоренского есть замечательный труд «Из истории античной философии». Православный мыслитель пишет книгу об Античности. Казалось бы, чего здесь можно ожидать? По всей видимости, пристрастного изложения. Однако Флоренский рассуждал так: как христианин я сейчас, в сущности, должен осуждать древнюю философию и называть языческих богов «бесами», но в таком случае я вообще не имею права прикасаться к этому наследию, — чтобы писать об античной философии и религии, я сам должен на это время стать древним эллином (к слову, так его и называл Сергий Булгаков — «древний эллин»). И Флоренский действительно становился эллином, и труд “Из истории античной философии” может быть образчиком для всех православных мыслителей, пишущих о дохристианских религиозных учениях. Сразу вспоминается справедливое замечание Дитера Лауэнштайна относительно исследовательского подхода Виламовица и Нильссона, вознамерившихся проникнуть в таинства Элевсина:
"…филолог-классик фон Виламовиц и археолог Нильссон — были духовно далеки от сего предмета. И тот и другой при всей учености и славе страдали слепотой, что обнаруживается и в их суждениях о не столь древних и более доступных свидетельствах. Так, они писали объемистые труды о Платоне и древнегреческой религии, но сами не были ни мыслящими платониками, ни людьми мало-мальски религиозными".
Так или иначе, свои представления об Античности мы получили либо от «страдающих слепотой» атеистов, либо через призму христианского мышления (византийская культурная традиция), но не от самих греков, а соответственно, мы ничего не знаем об Античности как таковой. Винкельман дал нам другой ее образ — античности спокойной, «прирученной», не опасной, но все–таки греческой, языческой, исконной. В свою очередь Ницше явил миру ее «дионисийское измерение», благодаря чему в Серебряном веке и состоялась попытка переосмыслить греко-римское наследие. На мой взгляд, слова о возрождении Античности сегодня нужно воспринимать как «возрождение правильного отношения к Античности», т.е. «греческого взгляда на Античность». Если у меня получится к нему приблизиться, я буду считать свою задачу выполненной.

КАК ГРЕКИ ПОЗНАВАЛИ МИР?
Я.Голосовкер в книге «Логика античного мифа» пишет о том, что древние эллины познавали мир посредством воображения. Сегодня слово «воображение» постигла та же участь, что и слово «миф». Изначальный смысл этих слов был утрачен. Миф превратился в синоним сказки и вымысла, а воображение — в синоним фантазии. Я хочу вернуть этим словам их изначальный смысл, и начну я со слова «воображение». Если мы поймем, что такое имагинальный мир, мир воображения, мы найдем ключ к мироощущению и мышлению древних греков.
Евгений Головин считал, что нам доступны три уровня манифестации: тот, на котором мы чаще всего находимся, т.е. материальный уровень манифестации, наше пребывание в чувственном мире; уровень сна и сновидения; мир воображения или, как сказал бы французский философ Анри Корбен, имагинальный мир, mundus imaginalis.
Мир воображения — это мир, находящийся между миром божественным и миром человеческим. Это мир образов-архетипов, место встречи человека и божества, это мир души.
Согласно Голосовкеру, элины мыслили мифологически, они познавали мир имагинативно, силой своего воображения. Таким образом, воображение выступает как орган познания. Анри Корбен называл его органом Имагинации, или органом теофанического восприятия, так как «чтобы достичь мира тонкой материи, нужно иметь орган познания, отличный и от чистого интеллекта, и от органов чувств». Именно из этого промежуточного мира, из mundus imaginalis, из символической реальности, греки получали свои мифы. О «воображении» Анри Корбен пишет, что imaginatio (понимаемое исключительно как «способность создавать мир», «imaginatio vera et non phantastica») представляет собой главный инструмент алхимической операции. Его ученик Жильбер Дюран сделает идею mundus imaginalis фундаментом своей «социологии глубин» или «социологии воображения» и введет концепцию l’imaginaire, имажинэр, что означает одновременно воображаемое-воображающее-воображение.
Воображения, или Имагинация выступает как творческая сила, которая создавала миф. Голосовкер называет ее высшей познавательной функцией разума. Само мышление, само порождение идей является деятельностью воображения.
Контакт с Имагинальным миром, т.е. с миром первообразов-архетипов, это попадание в место, где происходит встреча божественного и человеческого.
Воображение, согласно Я.Беме, было той самой силой, с помощью которой бог создал мир.
«Фантазия» принадлежит материальному уровню манифестации, «воображение» — имагинальному миру, миру души. Парацельс предостерегал от смешения воображения с фантазией. Фантазию он называл «краегольным камнем безумия».

ТАКАЯ РАЗНАЯ АНТИЧНОСТЬ
Знаете, что самое сложное в восприятии античного мира?…
Должно быть вы полагаете, что, произнося слово «античность», мы имеем в виду некое целостное мировоззрение эпохи. Между тем, если вы внимательно ознакомитесь с взглядами тех поэтов и мыслителей, которых следует относить к «протофилософскому» или «предфилософскому» периоду (а именно Гесиод, Гомер, Акусилай, орфики и др.), то вы обнаружите, насколько они различны. Далее вы приступите к изучению досократовской античности и откроете для себя сонм Семи Мудрецов, воззрения Ферекида, Милетскую школу, Гераклита, Пифагора и Пифагорейскую школу, Элеатов, Эмпедокла, Демокрита и Атомистскую школу, Анаксагора и др. И тут вы совсем схватитесь за голову, поскольку выясните, что это абсолютно разные, а подчас и антагонистические, модели мировосприятия. Хуже того: античность до Сократа и античность после Сократа — это две разные античности. Сократизм/платонизм совершил своего рода парадигмальный сдвиг и предуготовил появление и последующее принятие христианства.
Еще одна радость: античность мистериальная и античный мир «после мистерий» — это тоже две разных античности. Чтобы разобраться в этом множестве мировоззрений, я в свое время (еще только приступая к написанию «Диониса преследуемого») поняла, что мне нужна точка отсчета, благодаря которой я стану постигать античный мир во всем его многообразии. И такой точкой отсчета для меня стал вопрос: «Как древние мыслили первоначало?» Затем я, вооружившись древнегреческим словарем и трехтомником Die Fragmente Der Vorsokratiker, подготовленным Германом Дильсом и Вальтером Кранцем + параллельно сверяясь с «Фрагментами ранних греческих философов» (под ред.А.В. Лебедева), стала искать ответ на этот вопрос. Собственно, «Дионис преследуемый» начался для меня с этих поисков.
И другой не менее важный момент: когда я прикасалась даже к одному-единственному фрагменту Гераклита, я пользовалась подходом Пьера Адо, то есть воспринимала изучение наследия древнегреческих мыслителей как «духовные упражнения» (об этом Адо подробно пишет в замечательной книге «Духовные упражнения и античная философия»). Тот же подход практикует британский философ Питер Кингсли. Только это и способно уберечь вас от скучных академических штудий и превратить процесс погружения в античный мир в настоящее приключение, которое, возможно, станет для вас преображающим опытом. Важно только преображение. Не банальное накопление знаний, а именно преображение.

АНТИЧНОСТЬ ИНГМАРА БЕРГМАНА
(«РИТУАЛ»)
Нуминозное есть mysterium tremendum, «тайна, повергающая в трепет». Переживание нуминозного выражается в оцепенении перед ужасающим чудом. Так мог бы оцепенеть царь Мидас, услышавший ответ жестокого бога. Так мог оцепенеть молодой сатир, участник дионисийских мистерий, увидевший в чаше с водой не отражение собственного лика, а маску бога Силена. Это подробно описывает М. Ямпольский в книге «Демон и лабиринт»: «Он [Силен] протягивает чашу, и в неё в изумлении всматривается молодой сатир. Другой молодой сатир за его спиной держит маску Силена, — т. е. лицо Силена как бы удвоено маской, помещенной прямо над его головой. В описанной сцене чаша служит выгнутым зеркалом. Молодой сатир смотрится в это зеркало, но вместо своего лица видит маску Силена».
О ритуале подношения чаши Ингмар Бергман узнал в период своего погружения в «Вакханок» Еврипида, читая многочисленные исследования о греческой трагедии. Подразумевалось ли в этом ритуале участие женщины, остается под вопросом. Бергман не стал ограничиваться мужскими персонажами, и к двум сатирам присоединилась жрица, удостоенная чести надеть маску бога, дабы та отразилась в ритуальной чаше с вином и один из жрецов поглотил отражение. Свидетелем ритуала станет судья, мучивший в комнате для допроса трех странствующих актеров, обвиненных в аморальном поведении.
Себастьян Фишер, Ханс Винкельманн, Тея Винкельманн — своего рода ипостаси самого Бергмана, его гетеронимы. Тея, чья жизнь представляет собой экстатическое безумие, говорит с богами и демонами, она непорочная святая и одновременно грешница, мучимая от невыразимой вины. Ее любовник Себастьян — импульсивен и брутален, его путь есть движение маятника — от одной крайности к другой. На вопрос о Боге, он отвечает: «Мне не нужен Бог для того, чтобы встретиться с вечностью». Ханс, муж Теи, воплощает в себе порядок, такт, терпение. Он терпелив к изменам и истерикам, он терпелив к неуступчивому судье. Он терпелив единственно потому, что больше всего в этой жизни боится одиночества. Судья — человек, пребывающий во власти страха. Страха парализующего, липкого, неотвратимого. Некогда он, явившийся в церковь, пожелал не исповеди, но совета; придет миг и он превратит свою комнату для допроса в исповедальню и, обливаясь слезами и потом, распахнет свою душу перед тремя актерами, нет, — уже тремя жрецами, справлявшими свой ритуал. Когда уста сатира насытятся богом вина, тот, кто вершил земной суд, отправится на Суд небесный. Столкновение с нуминозным бывает смертельным.

СВЕТ, ОГОНЬ И ОПАСНАЯ ИГРА С БОГАМИ
В книге итальянского писателя Роберто Калассо “Брак Кадма и Гармонии” говорится о том, что всякий, кто выходит за пределы человеческой сферы, обрекает себя на гибель — их пожирает огонь. Не столь важно, идет ли речь о предавших бога, о разгласивших тайны мистерий или о свидетелях божественной эпифании. Все они преступают черту. Мотив нахождения своей гибели в огненной стихии проходит через все легенды об Аполлоне и Дионисе. Семела, мать Диониса, умирает опаленная огненными молниями Зевса (Согласно Апиону, Зевс есть огненная субстанция кипящей природы). Владыка Олимпа успевает спасти еще не родившегося сына, он зашивает его в свое бедро и донашивает. Мать Асклепия, Коронида, убита Аполлоном и сожжена за измену со смертным человеком. Аполлон вынимает младенца из чрева горящей изменницы.
«За пределом, установленным в качестве допустимого, горит огонь. — Пишет Калассо. — Аполлон и Дионис часто находятся по краям этой границы, на стороне божественной или человеческой; они побуждают человека к движению назад-и-вперед, что выражается в стремлении выйти за свои пределы, за которые мы, кажется, цепляемся даже больше, чем за само человечество, и даже больше, чем за саму жизнь. И иногда эта опасная игра отзывается рикошетом на самих двух богах, которые в нее играют».
Приближение к Богу — это приближение к огню.
У фиванского царя Кадма было три дочери: Семела, Агава и Автоноя. Семела, мать Диониса, погибла в огне божественных молний представшего перед ней возлюбленного Зевса; Агава, мать Пенфея, оказавшись во власти дионисийского безумия, растерзала своего собственного сына; Автоноя была матерью охотника Актеона, узревшего эпифанию богини Дианы и растерзанного собственными псами. В эссе “Диана и Актеон” П.Клоссовски акцентирует внимание на том, что Актеон происходит из той же семьи, что и Дионис, и фактически приходится ему “двоюродным братом”. Актеон погибает от видения, от столкновения с нуминозным, как и Семела, опаленная могуществом Зевса, явившегося перед ней в своем истинном облике.
Многие потомки Кадма, обуреваемые экстазом, устремлялись к смертельному пламени богоприсутствия; они были не в силах противостоять своему влечению и, разрывая всякую связь с жизнью, ликующе тонули в пурпурном безумии.
«В их крови были боги. — Пишет Клоссовски. — Отсюда у обеих женщин [Семелы и Агавы. — прим. автора], как и у их племянника Актеона, пренебрежение к принятому богослужению, каковое соразмеряет и умеряет соприкосновение с божественной вечностью в повседневной жизни и предохраняет от всяких излишеств. Для них культ совпадает с судьбой, а религия состоит в том, чтобы очертя голову погрузиться в бога или богиню. Семела не довольствуется тайной связью с Отцом богов, ей претит топить единящую с богом жизнь в затхлости альковного адюльтера. Она желает, чтобы Зевс обладал ею целиком и полностью, в своем непереносимом облике. Она желает его видеть. Пожранная пламенем, она торжествует: Дионис рождается, чтобы умереть и возродиться».
Это дионисийское стирание границ, это всепоглощающая жажда бога, что заставляет попрать саму человеческую жизнь. Разбиение мучительных оков телесной ограниченности, путь добровольной метаморфозы — в случае Актеона — означает готовность к гибели, дионисийски бесстрашной и по-настоящему жестокой. Актеон приносит себя в жертву богине, как Семела приносит себя в жертву богу. Оба были предназначены “для более блещущих браков”. Браков с богами. И Семела, и Актеон являют собой примеры не только дионисийского (мистериального) исступления, но и исступления эротического.
Древние греки мыслили «светлое» в его непосредственной связи с «огнем» и «пламенем», и Лосев совершенно точно указывает на то, что «боги и демоны — это огненные существа, а не просто «свет». Позднейшая концепция божества как светлого начала принадлежит теогонистам и философам».

ПУТЬ ЖЕНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
АЛКЕСТА
«Алкесту» Еврипида я перечитывала, по меньшей мере, десять раз. Эта трагедия имеет надо мной какую-то непостижимую власть; раньше мне казалось, что все дело в моей эйдетической близости к Алкесте, вернее, к той архетипической модели, которую она воплощает. Однако с течением времени я начала раскрывать и другие причины. Например, решив вернуться к труду Вяч.Иванова «Дионис и прадионисийство», я сразу же столкнулась с собственными маргиналиями, обыкновенно оставляемыми на полях прочитанных мною книг. По прошествии времени они открылись мне совершенно иначе. Я отчетливо увидела СВЯЗЬ МИФА ОБ АЛКЕСТЕ И АДМЕТЕ С ЭЛЕВСИНСКИМИ МИСТЕРИЯМИ. Имя Адмет означает “необоримый”, что было одним из эпитетов АИДА; в Алкесте я стала различать черты КОРЫ-ПЕРСЕФОНЫ, а ее ЖЕРТВЕННЫЙ КАТАБАСИС и последующее возвращение в мир живых я восприняла как прохождение посвящения в таинства Элевсина.
ПСИХЕЯ
Затем я ознакомилась с комментариями юнгианского аналитика Э.Нойманна к мифу о Психее и Эросе. Я обнаружила размышления об Алкесте, которая, как выяснилось, изначально была богиней, ей было посвящено множество культов. А далее я вижу подтверждение своей интуиции, ибо Нойманн пишет: “Алкестида была Корой-Персефоной, богиней смерти и подземного мира, а ее супруг Адмет — это сам неумолимый владыка Аид. Алкестида входила в великий круг матриархальных богинь, что господствовали в Греции в изначальную эпоху. И только в ходе исторического развития богиня становится “героиней”, а ее божественный супруг — смертным царем Адметом. Это классический случай вторичной персонализации, когда изначально архетипические элементы сводятся к личностному уровню”.
Случай и правда классический. К примеру, та же вторичная персонализация и “разбожествление” постигло Клитемнестру и Агамемнона, о чем я подробно пишу в тексте “Орестея: черная песнь Эриний”.
ЭРОС И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО. НЕИСЦЕЛИМАЯ ТОСКА ПО ПОЛНОТЕ
Из мифа о Коре-Персефоне и ее похищении Аидом “выпадает” один важный элемент, а именно тот, что связан с Эросом. Он присутствует и в мифе об Алкесте-Адмете, и в мифе о Психее-Эроте. Но поскольку миф о Коре имел самое непосредственное отношение к Элевсинским таинствам, любое “выпадание” не следует считать случайным. Для женщины, а вернее для пути женского посвящения фундаментальную роль играет любовь; любовь как путь к бессмертию. Бессмертию, понимаемому не как возможность простого “выживания после смерти” (с необратимым возвратом в то колесо судьбы и рождения', от которого посвящаемые в Орфические мистерии молили богов их, наконец, отвязать), а как его понимали герметические философы («олимпийское бессмертие», согласно Ю.Эволе). Я всегда настаивала на том, что из любви не выходят живым: либо мертвым, либо уже бессмертным. И это прекрасно показано в мифе о Психее и Эроте. Когда женщина встает на путь посвящения, первый вопрос, который ей предстоит задать (прежде всего себе самой): “Придется ли мне сойти в Аид?”
Вернусь к Нойманну. Он пишет о Психее, “каждый подвиг которой начинается с переполняющего ее отчаяния, и в таком состоянии самоубийство видится ей единственным выходом”, — что путь ее, в отличие от мужского пути, есть ПУТЬ ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЕ (и занятие активной позиции, к каким бы последствиям это не приводило). Она столь же неостановима в своем отчаянном движении, что и гностическая София, которая в своем желании постичь тайну Отца, столкнулась с ограничивающим ее Пределом, однако продолжала, по словам Иринея, бороться, “страстно стремясь в беспредельность Бездны”. Неисцелимая тоска по Полноте.
РАСПЯТЫЙ КУПИДОН И ГЕРОИДЫ
Путь через страдание. Уверена, немногие из вас читали произведение древнеримского поэта Децима Магна Авсония под названием «Распятый Купидон». Перевел его Валерий Брюсов. Чем интересна эта поэма? Поэт, обращаясь к своему сыну, вспоминает картину в Треверах, в триклинии Эола, а именно изображение мифа о героидах и распятом Купидоне. ЖЕНЩИНЫ ГЕРОИЧЕСКОГО ВЕКА наказывают бога любви за то, что от любви они и погибли…
«Преданы страсти своей героиды, и каждая явно
Символ той смерти хранит, от которой когда-то погибла».
Кто эти женщины?
Семела: умерла, опаленная молниями явившегося к ней Зевса.
Кенида: ее возлюбленный Посейдон исполнил ее заветное желание — она хотела стать неуязвимым мужчиной, и бог превратил ее в Кенея. Обрести женский облик она смогла только в Аиде.
Прокрида : была нечаянно убита на охоте своим мужем Цефалом.
Геро: бросилась в Геллеспонт, когда утонул плывший к ней Леандр.
Сапфо: бросилась с Белой Скалы от несчастной любви к Фаону.
Эрифила: погубила мужа, прельстясь ожерельем древней царицы Гармонии; за это она была убита сыном.
Пасифая: оказалась охвачена страстью к быку.
Федра: повесилась, когда ее любовную страсть решительно отверг ее пасынок Ипполит.
Ариадна: покинутая Тесеем, умерла во время родов. Существует страшная тайна о смерти Ариадны. По одной легенде, она умерла, так и не разрешившись от бремени и произвела на свет дионисийское потомство уже в царстве мёртвых. Другие легенды сообщают, что она настигла смерть, забравшую не только её жизнь, но и жизнь ребёнка, и амафунтские женщины похоронили их в священной роще.
Лаодамия: после смерти возлюбленного Протесилая она обратилась к подземным богам с просьбой вернуть ей его хотя бы на три часа; после того, как время истекло, она покончила с собой и последовала за Протесилаем.
Канака: кровосмесительница (вступила в связь со своим братом и родила от него сына), покончившая с собой после того, как ее отец Эол бросил ребенка на съедение зверям.
Элисса (Дидона): совершила самосожжение после того, как ее покинул ее возлюбленный Эней.
Фисба: заколола себя мечом, узнав о смерти своего возлюбленного Пирама.
Мирра: была охвачена страстью к родному отцу и обманным путем возлегла с ним на ложе; спасаясь от гнева отца, она превратилась в мирровое дерево.

ТЕМА СМЕРТИ У ГОМЕРА
1. СМЕРТЬ КАК МЕТАМОРФОЗА
Смерть не была для грека гомеровской эпохи тем, чем она является для нас: умереть означало лишь «переменить жизнь» (μεταλλάσσειν тіѵ βίον). Для древних греков смерть означала не конец, а метаморфозу, переход эйдоса в другую сферу (например, смерть Актеона, подсмотревшего за купанием Дианы и превращенного в оленя, означала переход его эйдоса в животное царство). Что касается смерти вообще, то «человеческая композиция» состоит из некоего числа компонентов. То, что нисходит в Аид (как тень, эйдолон) и то, что возносится на Олимп (как нерушимый и вечный эйдос), как, впрочем, и то, что подвергается полному распаду (физическое тело), претерпевают разделение в момент т.н. смерти. Человеческая композиция состоит из бОльшего числа компонентов, чем я уже перечислила. Например, египтяне насчитывали шесть. Когда Платон говорит: «“Наша истинная личность — наша бессмертная душа, как ее называют, — отбывает… к нижним богам, чтобы дать о себе отчет. Для злых это ужасающая доктрина, но хороший человек станет приветствовать ее”, он, судя по всему, имеет в виду нисхождение в Аид двух высших компонентов, один из которых затем остается обитать в Аиде, тогда как другой — восходит в иную область. Сколькие исследователи удивленно разводили руками, пытаясь уяснить, каким образом Геракл счастливо обитает на Олимпе и в то же самое время его призрак находится в Аиде! Собственно, римляне, учившие о триаде “manes, anima (spiritus) и umbra”, также полагали, что umbra остается в гробнице, manes — нисходит к нижним богам, а anima — возносится на небо. Совершенно очевидно, что неоспиритуалисты разных мастей, играющие с «деревянной доской», сталкиваются исключительно с manes, манами, тенями усопших. Участь этих теней — умереть “второй смертью”, раствориться. Метаморфозы переживает та нерушимая часть, которая осуществляет эпистрофэ, возврат к истоку. Орфики называли ее частицей бога Диониса (Евгений Головин обозначил ее как “частицу золота” в нас, Анри Корбен — как “светового человека”).
2. «ПУТЬ ЗЕВСА» И «ПУТЬ МАТЕРИ»
Юлиус Эвола пишет о том, что греческие герои, считавшиеся в древности основателями высших родов, побеждали “вторую смерть” и не оставляли после себя тени; “это были сущности, достигшие независимой, трансцендентной и неуязвимой жизни “бога”. Кроме того, Эвола выделяет два посмертных состояния или пути души, которые можно легко соотнести с индуистскими Дэва-Яна и Питри-Яна: первый путь он называет “путем Зевса” или “солнечным путем”, он предназначен для царей, героев и представителей знати, в то время как второй — “путь предков”, или “путь Матери” ожидал тех, кто возвращался к истоку — “материнской вселенской матке”, где ему суждено было раствориться и принять “вторую смерть” (именно этим путем шествовали те, кто обитают в Аиде). Идущие путем Зевса избегают растворения и отправляются не в Аид, а в обитель бессмертных (Дом Солнц, Острова Блаженных, Элизиум, Асгард и т.д.).
3. «ДВОЯКАЯ УЧАСТЬ» ГЕРОЕВ
В «Илиаде» мы можем встретить идею о том, что некоторые герои имели «двоякую участь», то есть, финал их доблестной жизни не был раз и навсегда предопределен. Он зависел исключительно от их выбора. Так в IX песне Ахилл, узнавший от своей божественной матери Фетиды о своей «двоякой участи», оказывается перед непростым решением.
Жребий двоякий меня ведет к гробовому пределу:
Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, —
Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет.
Если же в дом возвращусь я, в любезную землю родную,
Слава моя погибнет, но будет мой век долголетен,
И меня не безвременно Смерть роковая настигнет.
В.П. Горан в книге «Древнегреческая мифологема судьбы» отмечает, что у Ахилла две Керы, иначе говоря, два возможных жизненных пути. Две Керы есть и у Евхенора, сына коринфского прорицателя Полиида. Важно сосредоточить внимание не столько на наличии двух Кер у названных здесь героев, сколько на открытой для них возможности увидеть грядущее, то есть на то, чего лишены мы. Грядущее представляет для нас вопросительный знак, поэтому даже в тех ситуациях, когда мы полагаем, что сделали выбор, мы остаемся в неведении относительно того, между какими «концами смерти» мы, собственно, выбирали. Как не известно нам и то, сколько «участей» дано нам, сколько «гибельных Кер».
Вопрос об отношении древних греков к смерти далеко не так прост, как может показаться. В «Одиссее» смерть названа «пагубной участью», в «Илиаде» по отношению к ней употребляется эпитеты «черная», «злая». Ахилл (а вернее его тень, эйдолон), пребывающий в мрачных чертогах Аида, с горечью говорит, что предпочел бы «живой, как поденщик, работая в поле, / службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, / нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый».
Сафо определяет смерть как «зло» («Самими это установлено богами: / Умирали бы и боги, если б благом смерть была»). Феогнид, обожженный мудростью Силена, учит:
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.
Из «Одиссеи» (Песнь 11) мы узнаём, что души (эйдолоны), находящиеся в Аиде, лишены не только памяти, но и речи. Они (и то временно!) обретают их только после того, как выпьют жертвенной крови. Тени слетаются к Одиссею, подобно птицам, и герой, спустившийся в Аид ради беседы с пророком Тиресием, отгоняет их мечом. Заметьте, что Тиресий отличается от прочих теней. Он не утратил ни речь, ни память. «Разум ему сохранен Персефоной и мертвому; в Аиде он лишь с умом; все остальные безумными тенями веют». Но и он пьет жертвенную кровь! Можно вспомнить и римский культ предков. Основателям рода, возведенным в ранг нуменов, подносились возлияния (как правило, смесь крови животных, вина, масла и меда, растворенного в молоке или воде). Так происходило «кормление» душ мертвых. Через кровь души вновь обретали способность общаться с живыми.
Если вы читали «Хазарский словарь» Павича, то, должно быть, помните рассказ о Калине и Петкутине, оказавшихся в заброшенном театре. Населявшие его бесплотные тени почувствовали запах крови и разорвали на куски непрошенных гостей. Как это напоминает Аид!

КТО ТАКИЕ ДАЙМОНЫ И ГЕНИИ?
В античной парадигме слово Δαίμων не имело негативных коннотаций. У Гесиода даймонами названы добрые души великих людей, живших в Золотом веке. В платоновском “Пире” мудрый Сократ дает ответ на вопрос, каково назначение демонов:
«Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчествам и чародейству».
По Платону, демоническое есть промежуточное, т.е. посредничающее между божественным и человеческим.
Демоническое — это огненная нить, из которой сотканы образы божеств, ибо явись они перед нами в своей опасной обнаженности, нас постигла бы участь Семелы. Ренессансный неоплатоник Пико делла Мирандола писал, что «ни одна духовная вещь, опускающаяся вниз, не действует без облачения». Демоническое есть «облачение» божественного, нисходящего к человеческому.
Совершенно иную картину мы встречаем в парадигме Средневековья. Критикуя трактат “О демоне Сократа” Апулея из Мадавры, Августин настаивает на том, что демоны были не посредниками между богами и людьми, а бесами или злыми духами. В христианском мире «демоническое» имеет строго негативный смысл. Один из фрагментов Гераклита сообщает: ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων (что можно перевести как: «этос человека есть его даймон»). Упоминание о даймоне мы находим и в «Беседах Эпиктета», где говорится о том, что Зевс «попечителем к каждому приставил божество (Δαίμων) каждого, поручив ему хранить его, причем неусыпным и не поддающимся обману». Император Марк Аврелий писал о даймоне следующее: «Зевс дал частицу себя, как руководителя и проводника, каждому человеку, то есть он наделил каждого человека умом (νοῦς) и мыслью (λóγος)». Плотин прямо называет даймона божеством: δαίμων τούτω θεός («даймон поэтому бог»). В эпоху Возрождения, а именно в «Книге жизни» Марсилио Фичино, главы Флорентийской Платоновской Академии, сказано: «…Каждый человек получает при рождении определенного даймона, хранителя его жизни, назначенного его собственной личной звездой и помогающего человеку в той самой задаче, к которой небожители призвали его, когда он был рожден…» Фичино фактически повторяет слова Платона.
Genius, anima, daemon (греч. Δαίμων), согласно античным мудрецам, есть порождающее начало человека, которое обитает в голове (наиболее божественной части тела) и не уничтожается после смерти. Как отмечает Р.Онианс, поклонение “божественному Августу” (divis Augustus) было ничем иным, как поклонением его genius. Это поклонение ни в коем случае не стоит рассматривать как «культ личности».
Интересно, что отличие свободного человека от раба заключалось в том, что свободный человек полностью доверялся господству СВОЕГО гения, в то время как раб находился во власти ЧУЖОГО. Безусловно, утрата свободы (прежде всего, метафизической) начинается с полного подчинения чужому гению/даймону. Подчинения, равного добровольному погашению своего внутреннего пламени (я не случайно говорю о «пламени» — мощь гения проявляла себя как пламя).
Онианс также настаивает на том, что гений одного человека не равен гению другого. Ссылаясь на Плутарха, он пишет, что Антоний проигрывал Октавиану в любом состязании лишь по той причине, что гений Антония испытывал страх перед гением Октавиана.
Сильное влечение одной личности к другой либо их взаимное влечение обусловлено даймоническим притяжением. Мы часто говорим о чьей-либо харизме, это упрощенное, но, тем не менее, правильное понимание силы genius. Когда мы называем человека «гениальным», мы всего лишь хотим подчеркнуть, что мощь его гения проявлена в высочайшей степени. Попадание под влияние чужого гения не всегда следует рассматривать в негативном ключе, поскольку именно это влияние и может подтолкнуть человека к обретению собственного пути, однако для этого нужно быть достаточно сильным, устойчивым и независимым, ибо в противном случае гипнотическое воздействие может привести к полному растворению. Хочет ли знать океан о крупицах растворившейся соли в его извечных водах?
В суфизме есть понятие «фана фи’ш-шейх», которое можно перевести как «исчезновение в мастере», полное растворение в нем. Когда Руми обращается к мастеру Шамсу Тебризи со словами: «Я уничтожен пред Тобою, так что нет ни следа меня”, он демонстрирует именно достижение состояния «фана фи’ш-шейх». Но это не конечная ступень на пути суфия, поскольку «фана фи’ш-шейх» — лишь подготовка к «фана' фи'ллах», исчезновению в Боге. Подобным же образом многие (под ними я на этот раз подразумеваю людей, не имеющих никакого отношения к суфийской традиции) склонны исчезать в своих учителях, кумирах, возлюбленных, покидая свой внутренний центр, растождествляясь с бессмертным и нерушимым началом их самих (genius, anima, daemon). Думаю, что не сильно ошибусь, предположив, что в случае встречи Платона с Сократом произошло именно «исчезновение в мастере», ибо отличить теперь , где Сократ, а где, собственно, Платон, предавший огню созданные им трагедии, невозможно.
В книге «Античная философская теология» Г.В. Хлебников пишет: «Многие современники отмечали парализующее или, как они это называли, медузиющее воздействие Сократа на своих собеседников, но секрет и механизм этого феномена до сих пор детально не исследовался. В связи с этим эвристичной представляется статья Г.Тарранта, в которой на основании анализа новейшего критического издания Марком Джойелом диалога Платона «Феаг» показана решающая роль именно личного пребывания обучающегося вблизи харизматической личности Сократа (т.е. любого аналогичного Учителя) для инициации успеха пайдейи. Более того, Таррант показывает, что причиной такого влияния античного философа на свое окружение является не столько он сам, сколько действующая через него сила божества».
Daemon или genius Сократа восхитил, а затем и поглотил genius Платона; произошло то, что обыкновенно происходит в «фана фи’ш-шейх».
Помните Мерсо из романа Альбера Камю «Посторонний»? Мерсо убивает араба, находясь в состоянии будто бы затмении рассудка. И позже на суде говорит, что во всем виновато солнце. Древний грек объяснил бы его поступок иначе. В книге «Греки и иррациональное» Доддс описывает опыт божественного или демонического наваждения. Он называет его Ата. Когда некое божество или некий даймон внезапно «похищал» у человека рассудок, тот находился под воздействием Ата. Он демонстрировал демоническое поведение. Ата — нигде у Гомера не обозначает болезнь, Ата — это некое психическое состояние, временное помутнение рассудка, вызванное вторжением божества. В «Илиаде» Гомер называет три источника Аты: сам Зевс, Мойра и Эриния, бродящая во мраке. Когда Агамемнон уводит у Ахиллеса его наложнику и тем самым вызывает его гнев, он затем объясняет свой поступок именно даймоническим вторжением:
Часто винили меня, но не я, о ахейцы, виновен:
Зевс Эгиох, и Судьба, и бродящая в мраке Эриннис:
Боги мой ум на совете наполнили мрачною смутой (ate)
В день злополучный, как я у Пелида похитил награду.
Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила…
Греки различали нормальные состояния сознания и состояния под властью Аты. В этом состоянии человек совершает безотчетную ошибку и не несет за нее никакой вины.
В той же книге Доддс описывает другой вид даймонического вторжения. Он называет его Менос. Менос — это сверхъестественный опыт. В состоянии Менос человек способен совершать самые невероятные подвиги. Он способен даже вступить в битву с богами. В 15 Песни «Илиады» Гектор в состоянии Менос превращается в подобие берсерка: на его губах появляется пена, а глаза горят нечеловеческим огнем. Как только Гектор облачился в доспехи Ахиллеса, боги вдохнули в его сердце воинственный дух. Менос — это не просто физическая сила, это особое состояние сознания.
Натэлла Сперанская