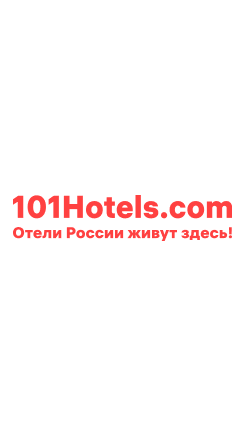Как мы понимаем Миф?
Нередко я задаюсь вопросом, способен ли современный человек приблизиться к мировосприятию древних греков, осознать, что двигало Клитемнестрой или Медеей, ощутить трепет перед космогонической Ночью Гомера, испытать волнение от прочтения орфических гимнов или поэзии Пиндара, словом, может ли современный человек, так и не разрешивший внутренний конфликт между Богом и богами, Олимпом и Голгофой, Единым и многим, политеизмом и монотеизмом (материалистическая картина мира, чьим узником он стал, никак не явилась разрешением), проникнуть в таинства священной Эллады? Всякий раз я вынуждена давать отрицательный ответ. В предисловии к «Греческим мифам» Фридрих Георг Юнгер справедливо замечает:
«Наше мышление — не мышление мифа, а мышление о мифе. Мы не мыслим так, как мыслили греки, но осмысляем то, о чем мыслили они. Вопрос заключается в том, чтобы выяснить, насколько греческое мышление совпадает с нашим собственным».
Для современного человека, привыкшего видеть в мифе синоним «сказки», «вымысла», «иллюзии», «суеверия» основная проблема сводится не столько к исторической дистанции, отделяющей его от греков, сколько к дистанции онтологической, бытийной. Мы не просто живем в мире, оставленном богами, — мы живем в мире расколдованном (Entzauberung der Welt Вебера); в мире, где победили профанация и десакрализация; в мире, где принято произносить приговоры о смерти Бога, смерти автора, утрате середины (Зедльмайр), конце философии, конце истории, закате Запада, и прозносить так часто, что они давно утратили всякий смысл. В них больше нет напряженности. Они уже не призывают задуматься. Из них извлечен нерв, сердце, полемос. Их услышали и с ними смирились.
Инверсия смысла слова «миф» демонстрирует себя не только в синонимических рядах, не имеющих к мифу никакого отношения, но и в появлении таких понятий как «студенческие мифы», «журналистские мифы» и т.д. Совокупность примет, вымыслов и приземленных суеверий безосновательно именуется «мифом». Между тем стоит напомнить, что миф — это изложение сакральной истории, это слово о богах, это повествование о событии, случившемся во время Оно, или во времена «начала всех начал». Как утверждает Мирча Элиаде, миф описывает вторжение священного в этот мир. Всякий, кто берется рассказывать о мифе, оказывается перед непростой дилеммой между желанием быть понятым своими читателями, и опасением упростить, приземлить и умалить Мифическое. Жонглируя историями о божественном адюльтере и всячески демонстрируя панибратское отношение к богам, многим рассказчикам удается достигнуть лишь единственной цели — оказаться далеко за пределами области мифа.
Неужели современный человек никогда уже не почувствует, что воспламеняло кровь древних эллинов, чем были для них боги и герои, как они мыслили судьбу и как вступали в смерть? Иннокентий Анненский считал, что мы можем понять Античность посредством художественной интуиции. А для этого нам придется научиться переживать (а не изучать) миф. Переживать не как вымысел, а как живую реальность, как событие внутреннего сокровенного опыта — личного по своей основе и сверхличного по своему содержанию. Мифические структуры пронизывают все наше существование, но мы перестали их замечать, мы больше не распознаем в них архетипические модели. Человек времен Гераклита, Парменида, Эмпедокла, знал, что миф дает ключ к реактуализации абсолютного начала, что разрушенный Космос можно сотворить заново (через космогонический миф, возвращение к истокам). В книге «Аспекты мифа» Элиаде пишет: «Это живой мир, населенный существами из плоти и крови; они подчиняются законам становления, старения и смерти. Поэтому он требует периодического восстановления и обновления. Но мир можно обновить, только повторяя то, что in illo tempore сделали Бессмертные, только повторяя сотворение».

Парадигматические модели мифов. Миф и история
В основе любого ритуального действия, любого религиозного акта лежит некая парадигматическая модель. Любое историческое событие, меняющее лицо мироздания, имеет свой небесный прототип. Что мы, собственно, понимаем под «историей», «исторической личностью»? Для Шпенглера история была совокупностью и воплощением исполинских биографий. Можно вспомнить и Томаса Карлейля, считавшего, что всемирная история есть биография великих людей (к слову, «теории великих людей» придерживались и такие мыслители, как Габриэль Тард, Фридрих Ницше, Хосе Ортега-и-Гассет). В «Закате Европы» задан вопрос: «Не лежат ли в основе всего исторического общие биографические пра-формы?», т.е. некие архетипические формы или парадигматические модели, которые повторяются, воплощаясь в эпохах, лицах, временах. Я бы добавила: событиях. Шпенглер упоминает короля Карла XII, который постоянно носил с собой жизнеописание Александра Великого и желал во всем подражать этому величайшему завоевателю. В свою очередь Александр подражал героям Ахиллу (за что его стали называть «новым Ахиллом») и Гераклу, более того — можно допустить смелую мысль, что он сознательно воплощал многие парадигматические модели, взятые из «Илиады» Гомера, что сопровождала его в военных походах. Подражал Александр и богу Дионису (вспомним его индийский поход). Египетский фараон, сражавшийся с врагами, подражал богу Ра, воспринимая своих противников как воплощение гигантского змея Апофиса (Апопа). Так греческие герои (например, Орест-Аполлон восставший на Эгисфа. См. «Орестея — черная песнь Эриний») видели в своих врагах древних Титанов, в то время как сами они имитировали действия победоносных олимпийских богов, низвергнувших чад великой матери Геи в мрачный Тартар. Молитва к Тифону, обнаруженная в Большом Магическом Папирусе (см. «Смена поколений богов. Вопрос о культе титанов»), является иллюстрацией противоположного — антибожественного — пафоса, поскольку произносящий ее, имитирует богоборческий акт врага Зевса. Подражание богам, титанам, даймонам, мифическим предкам, героям лежит в основе всех древних мистерий.
Современные французские философы Ж.Лаку-Лабарт и Ж.-Л.Нанси вводят понятие «историческая имитация», подразумевая под ним мимесис классической древности. Даже в самоубийстве Клеопатры авторы усматривают подражание какому-нибудь эпизоду из мифа об Иштар-Астарте. Подражание богам и мифическим героям исконно лежало в основе всех значительных исторических событий. Свой прототип имеют как войны, пережитые человечеством, так и архитектурные шедевры: храмовые комплексы Древнего Египта и Древней Греции, храмы в Кхаджурахо, Парфенон, мечеть Омейядов, готические соборы, замок Шамбор, Лувр, московский Кремль. Там, где существует тонкая связь между божественным и человеческим, «полотно» становления способно отразить на себе росчерки бытия. Там же, где этой связи нет, все «становящееся» явственно несет на себе признаки распада и скорого конца. Удел его — сиюминутность, эфемерность.
Сколькие властители не расставались с «Жизнеописаниями» Плутарха и пытались (возможно, неосознанно) следовать за своими великими предшественниками? А скольким властителям сегодня под силу вытянуть жребий Менелая или Агамемнона, а, вытянув, достойно принять и исполнить? История современного человечества пишется уже не «исполинскими биографиями», но карликовыми интересами, а подражание богам и героям уступило место подражанию друг другу. Личность, которая была уникальным воплощением вечного типа (ἀρχέτυπον), постепенно перестала являться в истории и ее подменил индивид. Личность созидала земной порядок в соответствии с пра-формами: возводящиеся ею идеальные города — от Сфорцинда Филарете до Пьенца Росселино — имели свой прототоп в Адоцентине «Пикатрикс’а», Космополисе стоиков, идеальном государстве Платона, Небесном Граде «Откровения святого Иоанна Богослова». Индивид, не подозревающий ни о каких типах, занят лишь приумножением симулякров, «копий без оригинала». Элиаде подчеркивает: «Предмет или действие становятся реальными лишь в той мере, в какой они имитируют или повторяют архетип». Это заставляет нас признать, что мы давно перестали жить в «реальности» и совершать «реальные» действия. Когда человек имитировал действия богов, героев или предков, он осуществлял исход из времени: покидая мирское время, chronos, он вступал во время священное, мифическое, zatheos chronos (например, во время мистерий или обряда обновления мира, обычно возлагавшегося на царя). Исход из времени, возвращение к истоку, был космогоническим ритуалом, во время которого стиралась граница между миром мертвых и миром живых.
Десакрализация и дегероизация — две основные черты современного мироустройства — делают невозможным явление нового Александра или нового Леонардо. Парадигматические модели подражания богам/титанам или даймонам можно выявить и в греческой трагедии. Я задаюсь непростым вопросом: какой парадигматический жест имитирует Эдип? В греческих мифах ни один бог не разделяет ложе со своей собственной матерью после убийства отца. Кронос, низвергающий Урана, занимает его трон, но не делает родную мать Гею своей супругой (ею становится его сестра Рея). Так же и Зевс, лишающий власти своего отца Кроноса, не делит ложе со своей матерью Реей (его супругой является его сестра Гера). Кому подражали Медея, Алкеста, Антигона? Имели ли их поступки божественные прототипы или эти герои положили начало новым парадигматическим моделям, которые нам предстоит открыть?
Курт Хюбнер делает важное замечание:
«В своем “Федре” Платон рассказывает, что каждый человек создан в своей сущности по образу того бога, который сопровождал его приход в мир для постижения идей. Если это был Арес, то человек будет готов в случае оскорбления пожертвовать собой и даже любимым; если это был Зевс, то человек будет заниматься философией и попытается в том же духе воспитать любимого; то же можно сказать о влиянии Геры, Аполлона и других богов».
Однако буквальное понимание этой идеи может привести к обманчивой уверенности в том, что каждый человек есть бог. Иными словами, потенциальное и непроявленное можно ошибочно принять за реализованное, а то, что было заданием, воспринять как данность. Когда аналитик-юнгианец Эдвард Эдингер предлагает своим читателям (вне всяких различий между гиликами, психиками и пневматиками, если мы воспользуемся гностической классификацией) искать в греческих мифах параллели со своей собственной жизнью, он совершает непростительную, но, к сожалению, распространенную ошибку. Архетипические модели оживали в экзистенции героев, сыновей Земли и звездного Неба, четвертого поколения Гомера. Между пятым, пост-героическим, поколением людей («железный род») и четвертым лежит непреодолимая пропасть. Нынешний человек отнюдь не άνθρωπος, он более не “сын Земли и звездного Неба”, но лишь “сын Земли”. Он мнит богов удалившимися только потому, что удалился сам. Именно он мертв (боги живы), но продолжает делать вид, что нечто ему принадлежащее называется жизнью.
Ницше имел полное право искать в своей судьбе архетипические модели, говорить о философствующем боге Дионисе, о злой мудрости Силена, о предтече Сверхчеловека Заратустре, о внутреннем хаосе, о своей задаче расколоть историю надвое, он имел право подписывать свои письма именем Дионис Распятый, как Гельдерлин имел право писать о “всепомечающей” бездне, слагать гимны богам и титанам, называть себя Скарданелли, прозносить загадочное слово “палакш”. Ядро их экзистенции было пронизано Божественным, они сумели принести высшую жертву и оживить в своей крови сверхчеловеческий вихрь, возносящий их над прочими смертными. Но этого права нет и не может быть у того, кто вознамерился найти внутри себя целый Олимп, но не поставил на кон свое посмертие, не пошел путем самопреодоления, не рискнул заглянуть за пределы формы и высвободить тайный огонь, горящий на тайном алтаре. Это право добывают в войне, в майевтическом методе, в дерзостном движении вспять, к истокам, к пугающим началам, к праосновам бытия. Это право на жизнь, равное праву на смерть. И только после его обретения можно искать параллели между своей судьбой и судьбой Ахилла, Фиеста, Пенфея и т.д.
Современный итальянский философ Клаудио Мутти пишет в книге «Imperium», что комментатор Аристотеля, известный как Фемистий из Константинополя, а также позднеантичный ритор Либаний сравнивали Императора Юлиана с Дионисом и Гераклом, что объяснялось не случайностью, «а имело мифическое содержание и исходило непосредственно от знаний посвященных». Там же мы читаем о пророческом сне матери Юлиана — Василина (Базилина), супруга Юлия Констанция, узнала о том, что ей суждено родить на свет нового Ахилла. Согласно Клаудио Мутти, сам Юлиан считал путь Пелида парадигмой для подражания. В римском императоре видели сходство и с «новым Дионисом» Александром Великим, объединившим Восток и Запад.
«Поэтому Юлиан, — пишет Мутти, — по словам Максима Эфесского, поверил, когда ему сказали, что для него уготована судьба продолжателя дела Македонского. После смерти Августа, гласит легенда, присутствующие увидели, что тело покидают две души: сперва Юлиана, затем Александра. Похожие на два факела, они превратились в огненные шары, затем две падающие звезды смешались с бесчисленными звездами на небосводе».
Фрагмент из книги Натэллы Сперанской «Очерки о возрождении Античности»